В ноябре 2023 года в издательстве Европейского университета вышла «Русская ловушка» — новая книга петербургского публициста и исторического социолога Дмитрия Травина. Это продолжение монографии, в которой Травин сравнивает развитие российского общества и государства с западными странами — и ищет причины, по которым Россия от многих из них отстала.
Хотя сам автор считает свою книгу «патриотической», ее презентацию уже дважды отменили без ясного объяснения причин: сначала в московском ВШЭ, а затем — в петербургском Доме журналиста.
«Бумага» поговорила с Дмитрием Травиным о том, почему он считает отмены презентаций «странной историей», что в его работе опровергает тезис о «генетическом рабстве русских», как далеко России до модернизированного общества и что такое «русская ловушка».

«Моя книга носит патриотический характер». Как Травину дважды отменили презентации «Русской ловушки» и почему в работе большой фокус на Западе
— В середине января в Доме журналиста в Петербурге отменили презентацию вашей книги «Русская ловушка». Как это произошло?
— Это уже вторая отмена, первая была в декабре в Москве в Высшей школе экономики. Там заранее была достигнута договоренность о том, что я представляю книгу на научном семинаре, — то есть, не для широкой общественности, а при относительно закрытых дверях. За пару дней до события мне сообщили из администрации, что по решению ректората презентация отменяется, каких-либо объяснений я не получил.
В Доме журналиста отмена произошла в значительно более деликатной форме: мне лично позвонил директор Дома журналиста и сказал, что принято решение об отмене. Я попытался выяснить, почему, ответ был такой: «Сейчас не время для дискуссий».
— Что вы думаете по этому поводу?
— Для меня это странная история. Я подчеркивал и подчеркиваю, что эта отмена, в общем, не может быть мотивирована никакими текущими политическими событиями, поскольку, с одной стороны, моя книга посвящена событиям далекого прошлого, Средним векам, XVII и XVIII столетию, современные события в ней не анализируются и вообще никак не упоминаются.
С другой стороны, моя книга носит патриотический характер: один из ее ключевых тезисов в том, что у нашего народа нет никакой рабской ментальности, идущей то ли от татаро-монгольского ига, как часто говорят, то ли от Ивана Грозного с его опричниной, то ли еще от каких-то там причин.
В рамках этого тезиса я вступаю в полемику с разными авторами — как российскими, так и американскими — и стараюсь показать, что реальный анализ разных исторических фактов не дает нам возможности обнаружить какой-то особой рабской ментальности в российском обществе. А те проблемы в развитии Московского и Русского царств, Российской империи, которые мы признаем и которые нельзя не признавать, можно объяснить вполне рациональными причинами. Этому посвящена и «Русская ловушка», и моя предыдущая книга «Почему Россия отстала?».
— При этом несколько презентаций вашей книги уже состоялось?
— Да, одна презентация была в Москве, в магазине «Фаланстер», буквально сразу же после выхода книги. Я ей очень доволен, практически сразу раскупили всё, даже не всем хватило. А в ответ на срыв презентации в «Вышке» я тут же получил приглашение от «Института Адама Смита» и выступил в те же часы, просто в другом месте. Всё отлично прошло, была прекрасная молодая аудитория. И, естественно, в Петербурге, в Европейском университете, тоже я рассказывал об этом. А после отмены презентации в Доме журналиста я тут же получил приглашение от «Яблока» и выступил в офисе этой партии. Приятно, что общество не мирится с запретами, а идет навстречу автору.
— Я бы сказал, что с точки зрения радикально патриотической и в названии «Почему Россия отстала», и в названии «Русская ловушка» можно усмотреть что-то провокационное.
— Я не согласен. Важно отметить, что в данном случае речь шла о презентации только одной книги, слова «Почему Россия отстала» нигде не звучали. Не говоря о том, что, в конце концов, я человек компромиссный: если б меня попросили не упоминать первую книгу на презентации, я бы так и сделал. А в названии «Русская ловушка», на мой взгляд, абсолютно ничего нет провокационного.
— И всё-таки: «Русская ловушка» вышла в конце прошлого года. На фоне того, что происходит последние два года, вопросы истории российского общества очень остро воспринимаются всеми сторонами. Не было ощущения, что надо как-то смягчить или уточнить название? Я, например, пока не прочитал книгу, думал, что там будет и про отмену крепостного права, и какие-то заходы в революцию и коммунистическую эпоху.
— Я не вижу в этом смысла. Ну, у вас было вот такое восприятие, у других оно другое. Иногда, очень редко, я получаю отклики такого типа, что, вот, ожидали одного, а тут, оказывается, историческая социология. Между тем, если вы при покупке откроете книгу — и одну, и вторую — и прочтете аннотацию, как делает большая часть читателей, там ясно написано, о чем в ней речь.
Что касается XIX и XX века, до этого я надеюсь дойти в будущих книгах. Хотя сейчас трудно загадывать не то что на пять лет, а на пять дней вперед. Но вообще я собираюсь этот цикл продолжить и, по сути дела, он уже продолжается.
Есть другой момент, который больше вызвал удивление и споры, — причем даже у моих близких коллег. Это книга о России, но если посчитать чисто по страницам, по знакам, по абзацам, то обнаружится, что в совокупности гораздо больше текста посвящено разным европейским странам, чем России.
Это мой принципиальный методологический подход. Я за него бьюсь много лет. Я считаю, что если мы хотим понять специфику развития России, первое, что мы должны сделать: расколдовать, демифологизировать те страны, с которыми мы себя сравниваем, — Запад прежде всего. Если бы сравнивали с Китаем и с Индией, то я занимался бы этим, но те, кто пишет на тему русской истории, всё-таки с Индией Россию обычно не сравнивают, это уже из области эзотерики.
— С Индией и Китаем, может быть, не сравнивают, но сравнения с восточными деспотиями, с Ордой, с татарскими ханствами можно встретить достаточно часто. Почему вы эту тему практически не затрагиваете?
— Такого рода сравнения всё-таки чаще бывают просто в массовом сознании, — может быть, в публицистике, но не в науке. Действительно, иногда сталкиваешься с человеком, который говорит: вот, есть восточные деспотии, начиная от России и заканчивая Китаем или Индией, а есть западная цивилизация. Если начинаешь беседовать, расспрашивать, что же общего у России и Китая, человек по существу [не может] ничего сказать, кроме общих слов: тирания, бесправие, ужас-ужас-ужас.
Восточные цивилизации очень разные. Я боюсь, конечно, влезть в раздел, где я некомпетентен, но буквально одной фразой скажу, — и, надеюсь, китаисты, индологи это подтвердят — что, если сравнивать Китай с Индией как цивилизации, столько будет различий, что словосочетание «восточная цивилизация» просто теряет смысл.
Так что я отвечаю на те вопросы, которые реально стоят в обществе. Есть научные, полунаучные труды, в которых утверждается, что Московское государство произошло от Орды. Считаю, что это в основном не так, и в книге пишу об этом. Если бы были какие-то серьезные труды, доказывающие, что мы произошли от китайцев, тогда я, может, этому и посвятил бы внимание.
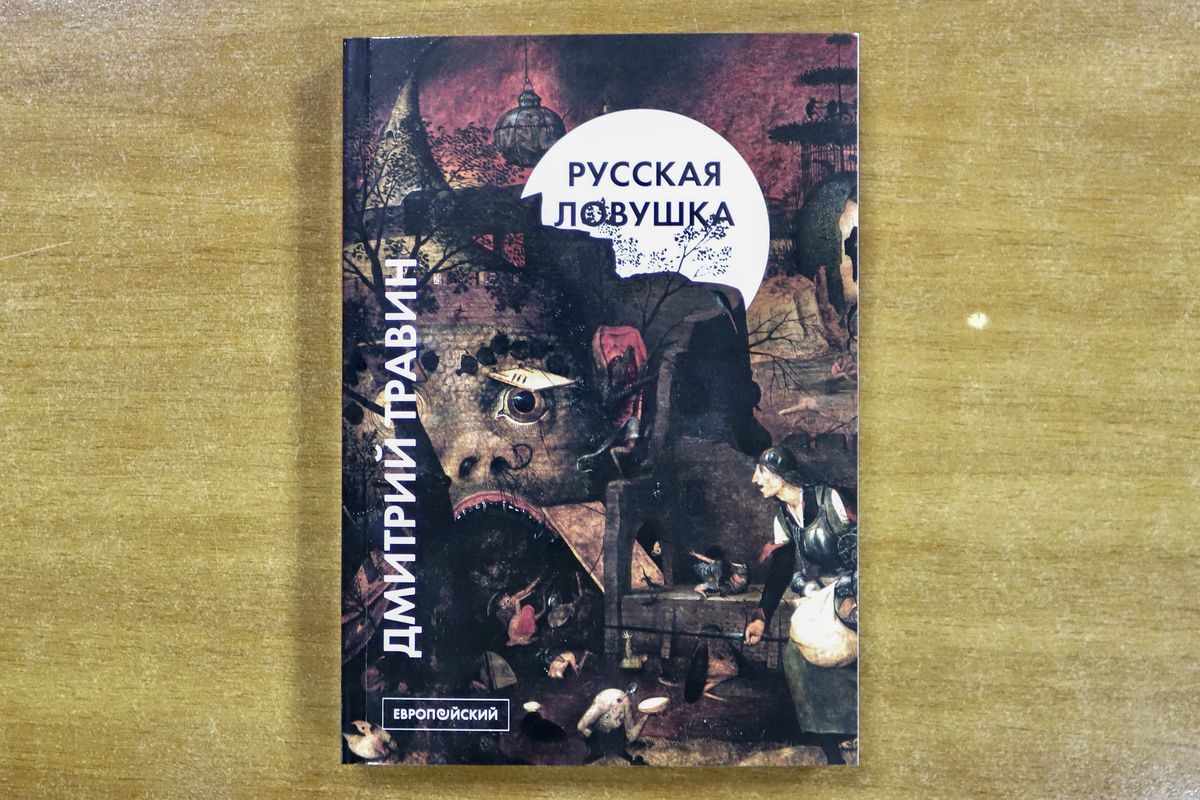
«Я хочу показать, что Россия вовсе не проклятая земля». Как история западных государств опровергает тезис о «генетическом рабстве русских»
— Если говорить о вашем подходе, кажется, вы пытаетесь освободить историю России от оков вечного спора западников и славянофилов. Есть люди, которые говорят: это проклятая земля, проклятое общество, всё надо снести, переделать, исправить. И есть те, кто говорит, что это священная земля, богоизбранный народ, русский царь спасет грешный мир.
— Да, я действительно хочу показать, что Россия вовсе не проклятая земля. Нормальная земля, которая развивается, — развивается с отставанием от многих стран, от которых нам не хотелось бы отставать, но далеко не от всего человечества. Есть в мире большие регионы, где жизнь намного хуже, чем у нас. Наоборот, сейчас мы скорее уж в числе лидеров. И то, что мы можем нормально развиваться, с моей точки зрения это, в общем, уже доказано довольно многими. А я главную свою задачу вижу в том, чтобы как-то объяснить, почему в какие-то периоды истории у нас возникали серьезные проблемы, которые моими оппонентами интерпретируются как некий культурный детерминизм, а иногда даже национальный детерминизм.
Я пытаюсь показать: давайте посмотрим на проблему крепостного права в деталях, не пытаясь уложить ее в три или даже в 33 странички, посмотрим, как оно всё возникало. А для этого вместо простеньких марксистских объяснений или культурологических обобщений мы должны будем обратиться и к механизму построения армии, сравнить русскую поместную армию и западные наемные армии. Должны будем внимательно рассмотреть разницу механизмов финансирования армии, и от механизмов финансирования надо будет двинуться к общей картине экономического развития Европы, позднего Средневековья и начала Нового Времени. И показать, как формировались реальные финансовые потоки, с помощью которых можно было содержать наемные армии. И на этом фоне показать, что в России этих потоков практически не было, поэтому армия формировалась с помощью раздачи земель с крестьянами, то есть поместий.
— К вопросу о так называемом природном рабстве: насколько я знаю, классическое крепостное право это в принципе довольно поздняя вещь?
— То крепостное право, которое Александр II отменял в ходе своих «Великих реформ», сформировалось в конце XVI века, — то ли при позднем Иване Грозном, то ли при Федоре Иоанновиче, а окончательно было юридически закреплено в середине XVII века. И действительно, найти здесь какую-то внятную связь с Ордой невозможно: стояние на Угре, которое принято считать окончанием Татаро-монгольского ига, — это 1480 год, минимум [за] сто лет.
Но что еще интереснее: так называемое вторичное закрепощение происходит плюс-минус в те же годы в Польше, Венгрии, Пруссии — везде к востоку от Эльбы. И в целом мы видим, например, что принципы формирования русской помещичьей армии и польского посполитого рушения, с которыми непосредственно связано закрепощение, вполне сопоставимы.
— Но при этом в Польше, в Пруссии крепостное право отменяют во второй половине XVIII — начале XIX века, а в России оно продолжает существовать до 1861 года. Хотя за сто лет до этого Екатерина, оказавшись в России, говорила: ах, какой ужасный пережиток прошлого, надо что-то с этим делать.
— Да, а придя к власти, она от реформ отказалась. Вообще, представление о том, что рабство — это принципиально нехорошо, в Европе возникает довольно поздно. Это эпоха Просвещения, конец XVIII века. Англичане запрещают работорговлю в начале XIX века, а рабство — только в 30-е годы XIX века. То есть, в странах к востоку от Эльбы было крепостное право, а в странах к западу вроде не было, но спокойно использовалось чистое рабовладение, если речь идет о заокеанских колониях.
Так что в годы молодости Екатерины принципиальное положение недопустимости рабства в Европе только-то и формировалось. В итоге мы отменили крепостное право не так, чтобы прямо на эпоху позже. К примеру, Американская война Севера и Юга происходила в те же годы. Россия — периферийная страна, в которой происходит примерно всё то же самое, что у соседей, просто с задержкой.
— Почему в России то задержка, то куда-то всё несется вскачь, как при Петре?
— Равномерности вообще нет никакой. Если бы мы с вами были французами и сегодня беседовали о развитии Франции, то мы бы рассматривали причину отставания Франции от Англии на протяжении довольно длительного времени, а для более раннего времени — от Северной Италии.
Я всё время буду это подчеркивать: я пытаюсь подробно анализировать западные страны, прежде чем говорить о России, потому что после этого анализа мы видим, что вся Европа развивается очень неравномерно, на каждом этапе есть лидеры, есть полупериферии, периферия, и между ними идет взаимодействие: кто-то отстает, кто-то лидирует, кто-то догоняет.

«России по этому пути надо идти еще довольно долго». Чем модернизация отличается от прогресса и на каком ее этапе находится Россия
— В книге вы не употребляете слово «прогресс», но всё время используете термин «модернизация». В чем разница?
— Модернизация и прогресс — это совершенно разные понятия. Понятие прогресс действительно предполагает некую мифологизацию, что мы движемся от более худшего к более лучшему состоянию. Модернизация — это, в моем понимании, не оценочное и не идеологизированное понятие, а вполне научное. Оно говорит, что если какая-то страна видит, что она отстает от модерна, то есть, от других современных стран, то эта страна может посмотреть, в чем отставание, и попытаться его преодолеть.
Будет обществу от этого лучше или хуже — это за пределами нашей науки. Кто-то скажет, что если мы расстаемся с нашими скрепами, то это катастрофа, кто-то скажет, что наоборот, с нашими скрепами надо расставаться, — это этический вопрос. А социальная наука исследует, как это отставание могло преодолеваться и почему оно возникло.
— То есть, это определенное течение в исторической науке?
— Да, теория модернизации возникла после Второй мировой войны, в основном ключевые труды были написаны в конце 50-х — 60-е годы. Теория модернизации в лице своих основных авторов отошла от общих идеологических схем и анализировала конкретный реальный процесс развития.
Наверное, самый именитый теоретик модернизации — Сэмюэл Филлипс Хантингтон. Он известен в основном по книге «Столкновение цивилизации», но в данном случае надо вспомнить его более раннюю книгу «Политический порядок в меняющихся обществах». Там Хантингтон показал, почему модернизация — это сложнейший и очень болезненный процесс, и почему нельзя просто принять решение «Ой, а давайте сделаем, как в Англии, и всё будет хорошо».
— Вы занимаетесь развитием теории модернизации в Европейском университете?
— Да, в ЕУ существует Центр исследования модернизации, которым я руковожу, где мы с коллегами занимаемся этими вопросами. У нас есть, если упрощенно, два направления исследований в этом ключе. Одно направление концептуальное — то есть, примерно то, о чем я вам рассказывал. А второе направление исследования страноведческое, там авторы скорее просто показывают, как шла модернизация в той или иной стране.
— Похоже, что теория модернизация как общий подход к жизни во всем мире возобладала на уровне стран и правительств, хотя они могут этого и не осознавать: все смотрят на соседей и стараются всё время меняться и развиваться.
— Можно так сказать, но здесь обычно бывают два возражения. Некоторые не согласны принципиально: мол, а как же духовность-то, вы же все модернизаторы жутко бездуховные? Мы сейчас с женой по вечерам смотрим знаменитый сериал «Наследники» — это же кошмар, как там изображены плоды американской модернизации. А кто-то скажет, что духовность ладно, ее не измеришь, но как же социальная справедливость?
Полемика вокруг этого случается, и я считаю, что, конечно, надо всерьез думать о социальной справедливости. Вопрос здесь в том, что иногда, думая о социальной справедливости, можно создать общество якобинского или большевистского террора, и будет только хуже. А можно создать скандинавский социализм — это, в общем, уже неплохо.
Лично мое мнение, не научное: вопрос духовности каждый должен для себя всё-таки сам решить. Скотиной нельзя быть при любых социальных обстоятельствах, и надо стараться соблюдать определенные заповеди — Бога или категорический императив Иммануила Канта.
Но в целом, если это исключить, то можно сказать, что да, все общества сегодня модернизируются. Даже те восточные общества, о которых лет 100 назад принято было говорить о как абсолютно застойных, меняются. Китай очень сильно изменился, но, конечно, еще не стал модернизированным обществом — скорее, модернизирующимся.
— А российское общество всё еще в процессе модернизации?
— Мы находимся, конечно, в состоянии модернизации. На этот счет, правда, тоже есть полемика среди ученых, что считать законченной модернизацией. Иногда я сталкиваюсь с тем, что модернизированным обществом считают любое промышленное, а промышленная революция у нас произошла, так что Россия модернизировалась. Но я считаю, это упрощенный подход. Реально модернизированное общество — это общество с эффективной рыночной экономикой, с утвердившейся как фундаментальный институт демократией, чего в России, конечно, пока нет.
— Сколько еще нужно времени?
— Я очень условно определяю период модернизации в 150−200 лет. Условно — потому что трудно сказать, с какого момента модернизацию отсчитывать. Вот я считаю, что во Франции модернизация началась в 60-е годы XVIII века, и к моменту Третьей Республики, в 70-е годы XIX века, общество в основном стало модернизированным, хотя колониальный вопрос сохранялся несколько десятилетий. Германия прошла основные стадии где-то от начала XIX века до самого конца XX века, когда ГДР и ФРГ объединились.
В России, я считаю, модернизация началась при великих реформах Александра II, а вовсе не при Петре I. Собственно, четвертая глава книги «Русская ловушка», где много говорится о Петре, как раз и называется «Несовременная модернизация». То есть, если мы очень хотим назвать Петровские преобразования модернизацией, то бог с вами, называйте. Но это не та модернизация, которая приводит к современному обществу. Это была модернизация в понимании людей XVII века. Так что России еще надо по этому пути довольно долго идти.

«Если тебя побили, волей-неволей начнешь модернизироваться». Как военные положения подталкивают государства к переменам и почему сейчас есть место для научной дискуссии
— В XVIII веке есть Франция со своим кромешным абсолютизмом — и есть такая же Россия. Но во Франции в 60-е годы вдруг начинается полноценная модернизация, переустройство всего общества, а в России ничего такого не начинается еще сто лет. Это и есть та самая «ловушка»?
— Как правило модернизация начинается в результате культурного сопоставления с соседними странами, либо жесткого военного поражения. Если тебя побили, волей-неволей начнешь модернизироваться. Для Франции XVIII века огромное значение имели идеи просветителей, которые изучали голландский, английский опыт. Эти просветители постоянно подчеркивали, что есть у нас проблемы, мы отстаем, надо разбираться почему.
Помимо общих свободолюбивых и даже революционных идей, которые шли, скажем, от Руссо, были идеи, идущие от Вольтера, который ездил в Голландию, от Монтескье, который в трактате «О духе законов» писал об английском опыте очень позитивно. Ну и был, конечно, контакт на уровне бизнеса, где в тот момент уже явно вырисовывалось преимущество Англии в экономике — по крайней мере, скажем, в торговле.
Французы на это смотрели, и, конечно, им хотелось заимствовать какие-то практики. Прежде всего, впервые возникла тогда идея о том, что, свобода лучше, чем несвобода. Потому что они видели, что свобода в Англии и Голландии порождает торгово-экономическое преимущество.
Потом постепенно эти идеи продвигались на восток, в Пруссию. Для пруссаков шоком стало разгром от Наполеона под Йеной. После этого они сразу резко начали меняться, понимая, что если они не хотят снова пройти через такое национальное унижение, то надо отменять крепостное право, менять многие параметры экономики, делать ее более конкурентоспособной.
— А Российская империя как раз с середины XVIII века до середины XIX выигрывала почти все войны, постоянно захватывая новые территории. Понятна логика власти: в целом система успешна, зачем меняться.
— Да, и в свою очередь поражение в Крымской войне в 1855 году стало очень серьезным шоком, который послужил стимулом к преобразованиям. Об этом напрямую писал, например, Дмитрий Милютин, главный реформатор русской армии при Александре II.
Но определенные преобразования были и раньше. Скажем, при Екатерине всё-таки был довольно существенный прогресс в области просвещения, школьного образования. Конечно, это не могло сразу качественно изменить ситуацию, но было заметное движение.
Огромную роль играл Московский университет в 30-е годы XIX века. Даже при суровом Николаевском режиме он стал таким рассадником здравомыслия, трезвых идей, что очень не нравилось и самому Николаю, и Третьему отделению. Но тем не менее университет не закрыли, и он продолжал быть интеллектуальным центром. Ну, и самое главное, при Николае были созданы комитеты графа Киселева, где активно готовилась на протяжении многих лет отмена крепостного права. Просто Николай был человеком нерешительным и не довел дело до конца, а сын его довел.
— Многие люди в самых разных частях общества и с диаметрально противоположными взглядами говорят, что «сейчас не время для дискуссий», ситуация требует от нас однозначности. Что вы думаете по этому поводу?
— Нет, я с этим не согласен. Уж тем более когда речь идет об исторической социологии — науке, которая изучает развитие общества на протяжении долгого времени и не касается сегодняшних событий. Идея о том, что наши дискуссии по исторической социологии как-то могут помешать решению сегодняшних проблем, высосана из пальца.
Поэтому я считаю, что научные дискуссии нужны, и считаю, что их всячески надо поддерживать, и сам поддерживаю их в нашем университете. И мне особенно важно слышать мнение оппонентов. Пол Фейерабенд писал в свое время, что мы иногда, глядя из дня сегодняшнего, можем не представлять, какие из наших трудов станут прорывом с точки зрения науки будущего. И те теории, которые нам кажутся неправильными, могут как раз возобладать через поколения. Может оказаться, что мои оппоненты правы, а я не прав, поэтому надо все научные дискуссии стимулировать и всячески поощрять.
Я уверен: если больше людей в нашей стране будет понимать, что в нашем народе нет какого-то врожденного рабства, то наша страна от этого только выиграет. Я надеюсь, что благодаря моим трудам, может, в России станет немножко больше людей, которые трезво смотрят на историко-социологическое развитие нашей страны на протяжении веков. Какие-то мифы исчезнут. Почему об этом нельзя говорить в Доме журналиста или в каких-то других местах, мне непонятно.
Что еще почитать:
- «Этому городу не хватало альтернативы». Тромбонист Антон Боярских — о популяризации джаза, консервативности Петербурга и прерванных связях с Европой.
- Как цензурировали блокадную память и какие живые свидетельства доступны. Рассказывает редактор блокадных дневников Наталия Соколовская.